Светлана, 42 года, психолог
Я довольно долго притворялась такой же, как все, — ведь быть иным страшно. Несколько лет назад я обратилась за помощью к аналитическому психологу. В процессе терапии наткнулась на статью о жизни людей с синдромом Аспергера (такое название на настоящий момент считается устаревшим: в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) синдром Аспергера выделен в отдельное расстройство, в МКБ-11 рассматривается как РАС. — Прим. «Холода») и поняла, что мне, как и героям того текста, «не выдали инструкцию» по взаимодействию с социумом. Мой аналитик дала мне ссылку на сайт с диагностическими тестами. Все они показали высокий результат риска наличия у меня синдрома, а последний тест, «чтение психического состояния по взгляду», оказался для меня до смешного непроходимым. Моя аналитик отнеслась к результатам скептически, сказав, что аутистические расстройства — не мой случай, ведь я могу понимать сарказм. Конечно, с возрастом я стала гораздо лучше это делать, но подростком определять сарказм у меня получалось намного хуже. Позднее диагноз РАС подтвердила психиатр, специализирующаяся в том числе на этом расстройстве. Я сообщила об этом своему аналитику, но она не отреагировала: она просто считает, что я «впечатлительная».
С самого рождения у меня были проблемы с нервной системой: судороги, нарушения крупной моторики. Я стояла на учете у невропатолога до совершеннолетия. Моя мама — педагог, которая имела представление о детском интеллектуальном развитии, — говорит, что я развивалась с опережением.
В детстве мне было странно слышать от взрослых: «Отойди от собаки, ты не знаешь, что у нее на уме!». Я очень любила собак (они похожи на маленьких лошадок — мой специальный интерес в детстве), и для меня всегда было очевидно, чего от них ждать. А вот что на уме у взрослых, я никогда не понимала.
В саду я общалась только с теми, кто общался со мной,
но мне все-таки больше нравилось просто наблюдать. Тогда же у меня появилась подруга — девочка, которая никогда не выражала эмоций и была такой «снежной королевой». В отличие от меня, у нее была богатая фантазия, она будто рисовала морозные узоры своим воображением, а я тонула в этой красоте. Наши мамы способствовали встречам, и мы в итоге подружились. Я даже попросилась вместе с ней в школу, отказавшись ходить в ту, где работала мама. Когда у родителей подошла очередь на квартиру, они отказались ради меня: нам пришлось бы уехать на другой конец города, и я не смогла бы так часто видеться с подругой. Наша дружба продлилась почти до 35 лет, пока у подруги не развилось шизотипическое расстройство. Я часто думаю о ней, но общаться не могу: в ней очень много агрессии, которую невозможно унять.
В этот же детсадовский период мама отдала меня в детский хор и театральную студию. Выступать на сцене для меня было равносильно ходьбе по канату без страховки над пропастью: я смотрела только на маму в зале, просто чтобы не упасть. Однажды я играла лису в новогоднем спектакле. По сценарию, я должна была утащить ключик, которым зажигалась елочка, потом меня разоблачали, и я прилюдно извинялась. Все аплодировали и говорили, что я очень хорошая лиса. А я разве что сознание не потеряла — до сих пор страшно вспоминать. Как-то мама при мне пошутила над моей картавостью во время исполнения. После этого я не смогла ходить в студию, хотя вообще я люблю петь, но делаю это только для себя — это помогает мне сбросить напряжение.
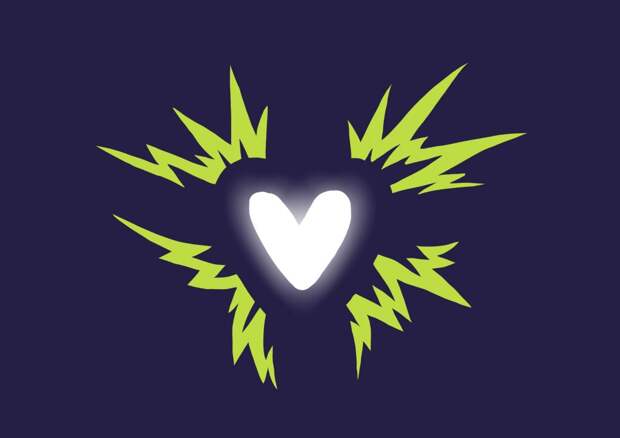
Дома я играла, в основном, сидя в шкафу или на нем. Маме приходилось приносить туда еду, потому что я отказывалась спускаться. Я не любила объятий, только если
сама подойду. Люди часто считали меня избалованной или плохо воспитанной. Меня это обижало, ведь я очень старалась правильно все понять и следовать правилам. Я знала все вежливые слова, но не могла усвоить, зачем их использовать: они только перегружали речь, и мне становилось сложнее понять суть сказанного.
Моей любимой игрушкой был калейдоскоп, а позже — «волшебный фонарь», мне нравилось играть со светом. При этом я не выносила лампы дневного освещения. Я думала, что их вешают для строгости, чтобы жизнь медом не казалась. Когда я была совсем маленькая, мне нравилось смотреть на аквариум и представлять, что я тоже рыбка и толща зеленоватой воды укрывает меня от этого моргающего света. Как-то в гостях у подруги я увидела такую же лампу над письменным столом и очень удивилась, что кто-то добровольно принес в дом этот кошмар. Я спросила: «Зачем? Эта лампа ужасна!». Подруга ответила: «Нет, она классная: ее можно трогать рукой, не боясь обжечься». Тогда я поняла, что моя неприязнь к лампам дневного освещения не универсальна для всех. Так же оказалось и с одеялами: в одеялах ценится легкость, а я ненавидела легкие одеяла и не могла под ними уснуть.
Мама очень обижалась, когда я не выполняла ее просьб. Потом она стала экспериментировать, записывая просьбы на бумагу или магнитофон. Этот способ сработал — я выполняла все, о чем меня таким образом попросили. При этом мама всегда внушала мне, что я нормальная и со мной все в порядке. Скорее всего, мама сама немного аутична – у нее какая-то запредельная степень наивности. Это не очень бросается в глаза, так как она работает с детьми. Перед выходом на пенсию она работала дефектологом с аутичными детьми, и они были очень к ней расположены, будто принимали ее за свою. Но все же иногда мама с раздражением говорила мне: «Света, хватит придуриваться — как можно не понимать таких простых вещей?!».
Полжизни я провела в городской библиотеке. Читала все подряд, у меня даже была цель — прочитать там все книги. Еще мне очень нравился каталог. Сейчас я думаю, что библиотека привлекала меня тишиной и порядком.
Я всегда боялась детского коллектива и старалась держаться поближе к взрослым. Но, когда выросла, обнаружила, что большинство взрослых не лучше. Я не могла нормально встроиться в коллектив, если только это не были такие же странные изгои, как и я. Наверное, поэтому я легко тусовалась с панками.
В подростковом возрасте я стала предметом интереса для противоположного пола. Это вызвало у меня восторг: теперь мне не приходилось лезть из кожи вон, чтобы наладить взаимодействие. Однако мне никто не объяснил, что это взаимодействие не должно превращаться в промискуитет… С другой стороны, все, что с тобой происходит, — это опыт.
Мой первый муж был шизоидным человеком. Это был ужасный брак! Я очень мучилась. Нет, муж меня не бил, просто он был громким и непредсказуемым. У нас родилось двое детей. Во второй раз я вышла замуж за человека, похожего на меня: он математически одаренный, не требует много внимания к себе, неразговорчив, хотя и очень эмоционален. Он не выражает свои эмоции внешне, но я всегда чувствую, что происходит у него внутри. У нас тоже двое детей.
Многие близкие жалуются, что я странная, равнодушная, думаю только о себе, что я манипулятор или еще что-нибудь такое. В эти моменты я чувствую себя жертвой проективной идентификации. Мой третий ребенок — сын — в подростковом возрасте стал проявлять ко мне неприязнь. Даже пытался меня ударить, и я вызвала полицию. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних я очень нервничала: какие-то люди говорили мне, что я никудышная мать, потому что не люблю своего сына. Я не понимала, что происходит. Мне было до обморока плохо от этих враждебно настроенных ко мне людей. Предлагала ему поговорить с привлечением квалифицированного медиатора, но он отказался. Зато остался очень доволен заседанием, ведь там ему ясно сообщили, что мать — ужасная, а он прав. Когда у подростков начинают бушевать эмоции, мне становится физически плохо, я не справляюсь. Но когда-то же они вырастут: со старшей дочерью у меня сейчас хорошие отношения, хотя раньше тоже были проблемы. Я действительно немного отстраненная, но это не значит, что я не люблю своих детей. Сыну я, видимо, недодала внимания в раннем детстве — старшие дети отнимали у меня слишком много сил.
Когда я рассказала родным и некоторым знакомым про синдром Аспергера, кто-то поверил, а кто-то стал «юморить», что это я себе придумала очень удобную отмазку. А подруга детства посмеялась: «Ну, конечно, оказывается, у тебя редкая болезнь. Как это необычно и модно, а главное, можно над собой совсем не работать». Было обидно.
С постоянной работой у меня всегда плохо складывалось. В 22 года я закончила курсы и получила аттестат слесаря-электрика по ремонту автомобильного электрооборудования. Мне вообще очень нравились механизмы — я любила о них думать. Два месяца работала в автосервисе
и была там единственной девушкой. Однако меня смущало мужское внимание, и я ушла.
Я закончила журфак, но работать в журналистике не смогла: я не могу читать «между строк», кроме того, в этой среде нужна быстрая реакция и многое основано на неформальном общении, в чем я совсем не сильна.
Я пыталась работать в большом городе, в часе езды на электричке, но не смогла — стала болеть, потому что шумный мир отнимал у меня слишком много сил. Когда я стала пользоваться берушами и солнцезащитными очками, сразу заметила, что стала меньше уставать. Сейчас ездить в транспорте мне значительно проще, но меня по-прежнему пугают скопления людей. Как бы это объяснить: ощущение от другого человека — очень сильное чувство. Особенно много этого в глазах, поэтому, наверное, так некомфортно в них смотреть — тебя будто обжигает. В толпе у меня начинается перегрузка, которая отбрасывает меня в противоположное ощущение: будто все люди неживые, и я сама вырезала их из картона и рассадила (в вагоне, например). Это помогает мне успокоиться и вернуть контроль. Относиться к окружающим как к картонкам — неадекватно, но найти баланс мне очень сложно.

Иногда мне хочется драться со всем миром и кричать. После этих вспышек я несколько дней чувствую страшную слабость. Сейчас я понимаю, что это мелтдаун, а раньше я считала себя не очень хорошим человеком, раз во мне столько ярости. Вообще, сейчас я стала больше прислушиваться к себе и своим ощущениям. Например, раньше я не любила чистить зубы и мыться. Я объясняла это так же, как и окружающие: просто я «грязнуля» или «родители не приучили». Сейчас я заменила обычную пасту на детскую, не такую обжигающую, и теперь никогда не забываю чистить зубы и делаю это с удовольствием. Еще во время мытья мне неприятно ощущение от душа на коже (больно) и быть мокрой некоторое время после. Поэтому сейчас я знаю, что в ванной должно быть тепло, нужно подготовить одежду и всякие примочки, чтобы облегчить неприятные ощущения.
Несколько лет назад я закончила обучение по программе «юнгианский аналитик». Иногда мне кажется, что у меня получается хорошо. Но при этом я думаю, что психолог, плохо разбирающийся в эмоциях, — что-то очень странное. Однако, я успешно веду практику, и я на хорошем счету у коллег. Тем не менее, я опасаюсь рассказывать о своем синдроме в профессиональной среде. Страшно, что могут сделать с тобой другие люди, когда узнают, что ты не такой.

«Дочери думали, что я их не люблю, потому что у меня проблемы с выражением эмоций»
Надежда, 48 лет, домохозяйка
Родители считали меня упрямым ребенком. Папа часто наказывал за непослушание, а я просто не понимала, почему должна выполнять непонятные мне действия по приказу родителей. Папа говорил, что надо жить по распорядку (видимо, эта привычка осталась еще с армии). Однажды он сильно дернул меня за руку, и я назвала его дураком. Он побил меня, но я так и не поняла почему. Слово «дурак» стало для меня запретным, я лет десять старалась его не произносить. Мама у меня была добрая, но строгая, и часто ругала, когда я не могла вести себя «правильно»: «Не можешь рта раскрыть, где надо!». Я считала себя какой-то бракованной.
В детский сад я не ходила, со мной сидела бабушка. Школа была для меня большим стрессом: шум и толпы детей пугали меня. Я совсем не умела общаться: обычно смирно сидела за партой и ни с кем не разговаривала. В старших классах стало сложнее, потому что девочки разошлись по парам — это у них называлось «дружба». У меня пары не было, и это очень угнетало. Девятый класс был самый тяжелым: девочки, с которыми я хоть как-то могла общаться, ушли, и я осталась совсем одна. Меня будто не замечали. В десятом к нам пришла новенькая, простая деревенская девчонка, она сразу мне понравилась, мы сошлись характерами, и нам было вместе очень интересно. Это называется, наверное, люди, близкие по духу. Жалко, но после окончания школы мы потерялись, так я ее и не нашла, а хотелось бы увидеть. Ведь она была моим первым другом.
Иногда я влюблялась в мальчиков в школе и, как ни странно, пыталась с ними объясниться. Это удивляло меня саму, потому что я старалась ни с кем не общаться. Когда я влюблялась, могла часами сидеть дома и мечтать. Редкая встреча на перемене, пара взглядов — и я была счастлива! Чувство было почти всегда безответно, но любила я долго.
После школы я получила в училище специальность художника (я любила рисовать с детства и окончила художественную школу) и устроилась в кукольный театр художником-бутафором. Мне очень нравилась атмосфера театра, но находиться в одном кабинете с другими людьми мне было очень тяжело. На работе ко мне относились хорошо, пытались общаться, но у меня это получалось ужасно плохо. Когда мне приходилось долго с кем-то общаться, в области солнечного сплетения начинались небольшие судороги, мышцы напрягались, я царапала пальцы, руки сами собой сжимались в кулаки. И так было со всеми. Если на этом этапе общение не прекращалось, я чувствовала сильное измождение, у меня появлялось дикое желание бросить все и убежать подальше туда, где я смогу побыть совсем одна и успокоиться.
Или вот еще пример. Когда музыка звучит очень громко и со мной кто-то разговаривает, я не могу сосредоточиться. Мой мозг не знает, что делать, кого слушать — человека или музыку? Я понимаю, что беседа важнее, но не могу этим управлять. В голове каша из звуков, поэтому мне надо либо выключить музыку, либо просто уйти в другое место. Я тяжело переношу громкие звуки, особенно шум дрели, пылесоса, женские крики, плач детей, — они кажутся мне до боли невыносимыми. Яркий свет тоже выбивает меня из колеи: например, вечером в автобусе, лампы в кабинете врача на приеме в поликлинике. Я старалась скрыть эти особенности от других, казаться нормальной, чтобы меня хоть немного принимали за свою.
После трех лет работы я вышла замуж и ушла в декретный отпуск. Муж — умный, спокойный, молчаливый, поэтому мне с ним хорошо. Он понимал меня, и с годами совместной жизни мы стали очень близки. У нас родились две дочери, вырастить и воспитать которых мне стоило немало трудов. Я умею чувствовать и сопереживать людям, но прямо выражать свои эмоции я не могу или делаю это не так, как у нейротипичных людей. Поэтому, когда мои дочери подросли, они все-таки высказали мне свои сомнения по поводу моей любви к ним. Я, конечно, их люблю, и мне приходится это часто повторять. Я обнимаю их при встрече и прощании, как и принято делать, — это их успокаивает. Но объятия меня пугают, даже со знакомыми людьми.
Около четырех лет назад я посмотрела фильм «Дорогой Джон», в котором говорилось о людях с легким аутизмом, и поняла, что это про меня. Я была поражена. Тесты подтвердили у меня синдром Аспергера. Я долго проверяла все свои особенности и сравнивала с описанием, совпадало на 80-90%. Осознание того, что я не одна такая, что со мной все в порядке, успокоило меня. Просто у меня нейроотличие: мой мозг работает по-другому, я по-другому вижу мир и обрабатываю информацию. Если бы я узнала об этом раньше, моя жизнь была бы легче и понятнее для меня самой.
Я стараюсь не говорить об аутизме со знакомыми, потому что знаю — не поймут и будут смотреть на меня, как на сумасшедшую, и наблюдать за мной, как за подопытным кроликом, а мне это неприятно. Своим близким я обо всем рассказала, но они отмахнулись, что я просто все себе напридумывала, а проблемы с социумом бывают у многих людей. Я слышала, что подтверждение диагноза «синдром Аспергера» связано с огромными трудностями, нужно найти хорошего специалиста, потому что некоторые путают его с шизоидным расстройством и шизофренией. К тому же это стоит больших денег. Поэтому у меня нет особого желания обращаться к врачам.
«Диагностировать РАС с помощью тестов нельзя»
В России психиатров не учат диагностировать РАС у взрослых. Я периодически читаю лекции врачам, и многие из них впервые слышат об аутизме у взрослых как о самостоятельном расстройстве. А все потому, что их обучают по программам, которые разрабатывались на основе уже устаревших программ 1970-1980-х годов прошлого века: обновляется только терминология, но базис во многом остается прежним. Если в мире постоянно обновляют базу знаний, то у нас пытаются охранять традиции старой школы. Психиатры старой школы, если и ставят диагноз «аутизм», то очень редко, и лечат его нейролептиками, как симптом шизофрении по Блейлеру (Эйген Блейлер — швейцарский психиатр, который в начале XX века ввел термины «шизофрения» и «аутизм» как один ключевых симптомов шизофрении. — Прим. «Холода»). При этом под аутизмом Блейлер подразумевал совсем не то, что подразумевают сейчас. Некоторые врачи, если и используют термин «аутизм» в концепции РАС, то имеют в виду савантов — людей с низкой социальной компетентностью, которые талантливы в какой-то узкой области, как в фильме «Человек дождя». Но случаи савантизма очень редки. Из-за этого практически ни у кого из взрослых пациентов с РАС не стоит верного диагноза: вместо аутизма им ставят шизофрению, шизотипическое расстройство, органические поражения головного мозга и т. д.
До недавнего времени людям, у которых диагностировали ранний детский аутизм, после 18 лет меняли диагноз. Медико-социальная комиссия, не зная ничего о поведенческих особенностях пациентов в детстве, видела диагноз «детский аутизм» и не давала инвалидность. Комиссия мыслила так: раз аутизм «детский», значит, этот диагноз может быть только в детском возрасте, а если он к 18 годам не прошел, то это не аутизм, а шизофрения, например. Соответственно, если после 18 лет необходимость в группе инвалидности сохранялась, диагноз меняли — не сама комиссия, а лечащие врачи, направляя на комиссию. Но недавно Минздрав опубликовал разъяснительное письмо: аутизм — это на всю жизнь, поэтому диагноз не может меняться.
Психиатры, работающие с детьми, обычно не видят, что происходит с их пациентами после 18 лет. Они, например, предполагают у ребенка шизофрению, начинают лечить ее нейролептиками. Но если у ребенка на самом деле РАС, многолетнее лечение нейролептиками в детстве меняет профиль рецепторов в мозге, делает его зависимым от этих лекарств, ослабляет эмоционально-волевую сферу. С таким человеком надо потом много лет работать, вложить кучу сил, чтобы его хоть немного социализировать. Плюс у таких людей часто развивается очень яркое посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Аутичные люди плохо переносят изменение обстановки, поэтому пребывание в психиатрической больнице, где их еще и лечат галоперидолом, выливается в полноценное ПТСР. Такие люди при виде скорой помощи, проехавшей мимо, впадают в истерику и прячутся.
Люди с легким РАС, которое не диагностировали в детстве, как правило, не догадываются о своей аутичности и приходят к врачу с тревожными, депрессивными реакциями на внешние события. Как-то ко мне обратился пациент, который жаловался на непонимание коллег. Он талантливый, знает много языков, прекрасно учился в школе. В детстве умение дружить, общаться, выстраивать отношения с противоположным полом ему было не нужно — он учился. А вот во взрослой жизни у человека возникли сложности. Коллеги им недовольны, с ним сложно общаться, друзей нет. А что с ним не так, человек не понимает. Он очень негативно отнесся к тому, что у него, скорее всего, РАС: «Зачем мне этот ярлык?». А ведь человеку с РАС важно принять себя. Антидепрессанты снизят тревожные и депрессивные реакции, но проблемы не решат. Ведь эти реакции появляются из-за непонимания других людей и невозможности выстроить с ними последовательные отношения. Этого не вылечить лекарствами. Тут надо понять себя, принять свою особенность, найти лайфхаки, которые помогли бы позитивно использовать свои особенности в работе, и прокачать какие-то коммуникативные навыки.
Бывает, что человек сам себя правильно интерпретировал, пришел ко мне, чтобы подтвердить диагноз, и я с ним согласился. Но такое случается очень редко. Диагностировать РАС на основе каких-либо опросников нельзя. Когда человек сам отвечает на вопросы, его ответы могут плохо коррелировать с его психическим состоянием и проблемами. Кроме того, язык многозначен, и, когда человек читает какие-то медицинские термины (в просторечии мы часто используем слова вроде «депрессия», «бред» и прочее в немедицинском значении, но в медицине у многих терминов существенно другое понимание, чем в быту), он интерпретирует их совсем не так, как опытный врач.
Несколько лет назад мои пациенты с подтвержденным РАС давали интервью для aspergers.ru (хороший сайт, там много полезной информации). После этого ко мне на прием пришло с этого сайта человек десять для подтверждения синдрома Аспергера. Подтвердились только один или два случая, точно не вспомню, у остальных было тревожное расстройство. Мне очень хорошо запомнилась одна девушка, экспрессивная, очень живая, социализированная. Она сказала, что не понимает себя и других людей: «Наверное, у меня синдром Аспергера». В ходе разговора выяснилось, что она не могла выбрать между двумя мужчинами, металась от одного к другому, и именно под этим подразумевала «непонимание». Поэтому для диагностики психических расстройств используется только клиническая оценка врача-психиатра.
Некоторые врачи называют аутизм «эпидемией XXI века». Но на самом деле взлета заболеваемости в наше время не произошло. Раньше человек ходил на завод, работал за станком, приходил домой, ложился спать — все было четко структурировано и понятно. А сейчас выше требования к социализации и больше запрос на эмоциональные отношения, поэтому люди, у которых есть с этим проблемы, стали более заметными.
Свежие комментарии